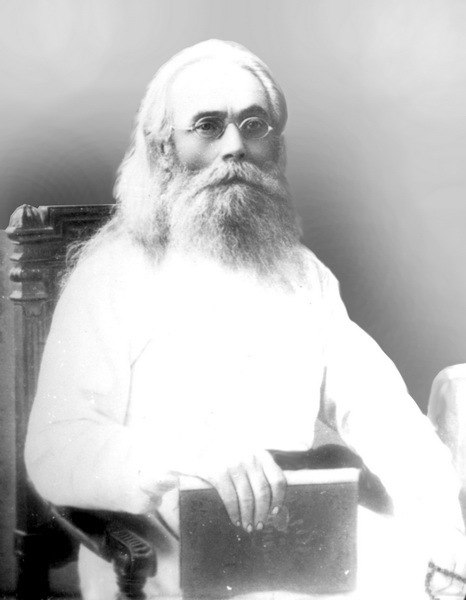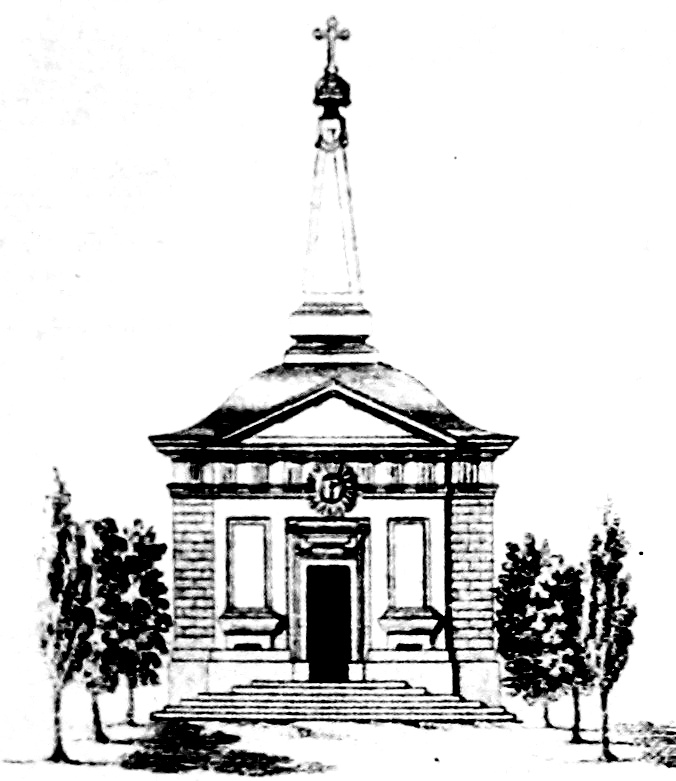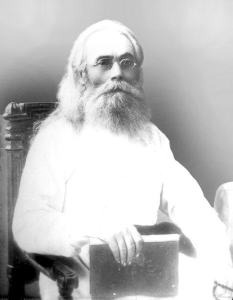 27-е Декабря 1912 года
27-е Декабря 1912 года
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Эта священная песнь поется, обыкновенно, когда бывают собрания по особо важным духовным вопросам.
Днесь благодать, скажем и мы, собравшись для духовной беседы. Бывало, также беседовали мы и в своей маленькой Оптинской моленной, только теперь круг слушателей расширился.
В Оптиной сидят, бывало, 3-4 на диванчике, остальные на креслах и скамеечках. О чем же поведем мы речь? Из разных городов съехались вы, кто из Питера, кто из Москвы, кто из дальнего Тамбова, съехались в нашу смиренную обитель, под крылышко преп. Сергия и знайте все, что примет преподобный эту жертву нашу и помолится за нас.
Для чего вы приехали сюда? Конечно, не материальные соображения руководили вами, нет, вы ехали сюда отдохнуть душой, провести святые дни в тихой обители.
Святые дни — какие чудные слова! А как проводят их в миру? — Маскарады, балы, театры так закружат человека, что ему некогда вспомнить о чем-нибудь духовном, а после всего этого остается в душе одна пустота.
Вспоминаются страстные разговоры, вольное обращение, увлечение мужчинами, а мужчин — женщинами. Такая пустота остается не только от самых низких удовольствий, но и от менее греховных.
А что, если среди таких удовольствий Господь призовет к Себе такую душу? Может ли она рассчитывать на райские блаженства, по словам Спасителя:—„В чем застану, в том и сужу». Страшно подумать, куда пойдет такая душа.
Мне вспоминается один страшный случай, когда я был еще в миру. В одном аристократическом доме был маскарад, я на нем не присутствовал, мне рассказывали после товарищи. Царицей бала была замечательная красавица, единственная дочь родителей, богатая, прекрасно образованная, по-светски воспитанная. Родители ничего для нее не жалели. Ее костюм, изображавший языческую богиню, стоил не одну сотню рублей.
Бал начался полькой, затем следовали другие танцы, наконец, французский кадриль. Во время кадриля красавица вдруг упала в предсмертной агонии. Когда сдернули с нее маску, ужаснулись ее видом — челюсти ее скривились, лицо почернело, глаза выражали ужас и просьбу о помощи, но никто не мог ей оказать помощь, так и умерла она посреди бала.
Поехали, погоревали, особенно родители, похоронили ее и поставили великолепный памятник — и все земное для нее окончилось.
А что стало с ее душой? — страшно и подумать.
Конечно, пути Божий неисповедимы, но, по нашему убогому человеческому разумению, не быть ей в Царстве Света, предстанет она Престолу Божию, и Господь, сказавший „В чем застану…», застанет ее посреди игрища, в одежде богини разврата, пошлет ее в мрачные затворы ада.
Вот, как кончается служение миру. Работающие миру считают служение Богу неудобоисполнимым и не замечают того, какие цепи накладывает мир на своих последователей.
Вот, взять хотя бы праздничные визиты. Вместо того, чтобы отправиться в храм, люди с утра до вечера ездят по визитам, часто бывая у лиц, им несимпатичных, да и лица эти вовсе не желали бы их видеть у себя. А попробуй-ка, например, подчиненный не побывать у начальства, ну, сейчас и неприятность, а то и вовсе лишат места.
Возвращается человек домой вечером усталый, разбитый, проклиная суровый обычай века сего.
Как же поступать христианину в подобных случаях? Апостол Павел говорит: — „Творите все, что не против вашей совести, а что противоречит, от того отвращайтесь». Совсем же не сноситься с миром невозможно, иначе пришлось бы уйти из него. Мир сильно не любит противящихся ему и награждает их разными названиями — монашек ненормальных, отсталых, и в устах мира это — позорное название.
„Знаете ли — говорит один другому, — про такую-то, что с ней сделалось? Еще в прошлом году она была так мила на маскараде, стольких заинтриговала, изображая Диану, преследуемую охотниками, а теперь? — Нигде не бывает, только ходит в Церковь, читает святые книги, вообразите?! Она ненормальная!» — вот приговор мира. Пока она служила врагу, то считалась умной и интересной, перешла на сторону Христа — стала ненормальна. И осуждает мир такую, смеется над ней. Положим, что считать за норму, если отречение от Христа, то действительно, она — ненормальная.
Но надо все перенести, все терпеть и остаться верной Христу. Но таковы были первые христиане, они, не взирая на муки, твердо держались за Христа. Привели, например, Федора Тирона к правителю. „Кто ты и какого ты звания?» — спросил мучитель. — „Я — христианин, прежде был рабом такого-то, теперь — раб Христа». — „Но почему же ты от такого богача перешел ко Христу?» — „Потому что я познал истину». — „Но ведь, если ты не отречешься Христа, я буду тебя мучить». — „Мучь, Господь даст мне силы перенести муки, тело ты можешь замучить, но не коснешься души». И он перенес все муки, но остался верен Спасителю.
Правда, и тогда отрекались иные, видя кипящие котлы с оловом, куда бросали живых людей, обращавшихся в пепел. Или, например, забивали гвозди под ногти, обрубали пальцы, вытягивали из рук жилы и на этих жилах подвешивали мученика на дерево, подпаляя медленно огнем и строгая тело железными когтями.
Ныне христиан не мучают на площадях, не сжигают на кострах, храмы открыты, в них совершается богослужение, но вот грустное явление — многие и без муки отрекаются от Христа.
Преследует мир рабов Христовых насмешками и презрением, и они не переносят сего. — „А ты стала что-то часто ходить в Церковь? — язвительно задают вопрос. Молчит. — Конечно, отчего не сходить в праздник, но ты, кажется, чуть не каждый день ходишь, да и посты начала соблюдать». Снова молчит. А иная начнет приставать: — „Ты вот все читаешь святые книги, а читала ли ты Ницше и т. д. Вот почитай только и сама увидишь, что они говорят», — да так и засыплет неопытную именами своих богов (у них ведь тоже свои боги). — „Если ты религиозна, то должна рассматривать вопрос со всех сторон, а не бояться услышать противоположное мнение». — Не надо их слушать.
Не читайте безбожных книг, оставайтесь верными Христу, если спросят о вере — отвечайте смело. — „Ты, кажется, зачастила в Церковь?» — „Да, потому, что нахожу в этом удовлетворение». — „Уж не в святые ли хочешь?» — „Каждому этого хочется, но не от нас это зависит, а от Господа». Таким образом вы отразите врага. Конечно, тяжело бывает от скорбей со всех сторон, унывают даже, особенно это известно монахам, кажется, что и Господь оставил — действительно, может быть. Он временно отступил, но зорко следит за каждой душой и не дает ей погибнуть.
Многие, начавшие жить во Христе, бывают очень требовательны в молитвах. — „Господи, сделай меня святой». — Конечно, это законная просьба, но непостижимая сразу. Это показывает, как ненавидит враг монастыри. Помню, когда я был в миру, то представлял себе монастырь скукой — все молись, да молись, редька да постное масло, да поклоны. Но, и бывая в аристократических домах, я испытывал скуку. Придешь, бывало, туда, где собираются умные люди, думаешь услыхать что-либо полезное, а на самом деле не то — передают городские сплетни, а начнет кто говорить что-либо серьезное, со всех сторон раздается „Ну, начали, вот пророк выискался!» Даже музыки не услышишь серьезной, а смотришь, стоит рояль, в несколько тысяч, и есть хорошо играющие, но никто до него не касается. Так постепенно, в течение 10 лет, и отходил я от мира. Труднее всего было мне оставить серьезную оперу, но случилось нечто, и я оставил театр. Теперь я совсем, слава Богу, отошел от мира и стал иноком, хотя отошел, быть может, только внешне, блаженны отошедшие внутренне.
Говоря о мире, считаю долгом сказать, что под этим словом я подразумеваю служение страстям, где бы оно ни совершалось — можно и в монастыре жить по-мирски. Стены и черные одежды сами по себе не спасут. Я не зову вас в монастырь, живите в миру, но вне мира — и благо вам будет, но не удовлетворяется миром тот, у кого в сердце „дрожат струны жизни».
Нужно помнить, что Господь всех любит и о всех печется, но, если по-людски нельзя нищему дать 1.000.000, потому что
и сам погибнет, и других погубит, а рублей 100 могут его поставить на ноги, и Господь лучше знает, кому что на пользу.
Нельзя научиться исполнять заповеди Божий без труда, и труд этот трехчастичный — молитва, пост и трезвение. Спаситель сказал ученикам на вопрос, почему они не могли изгнать беса: — „За неверие ваше, сей род изгоняется только молитвой и постом»… Итак, три эти вещи делают нас победителями врагов нашего спасения.
Самое трудное — молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в навык, а в молитве нужно понуждение до самой смерти. Ей противится наш ветхий человек, и враг особенно восстает на молящегося.
Молитва — вкушение смерти для диавола, хотя духовно он умер давно, но молитва как бы снова поражает его. Даже святые, как например, преп. Серафим, и те должны были понуждать себя, не то, что мы, грешные.
Наш поэт Лермонтов, окончивший так печально жизнь свою на дуэли, и тот испытывал сладость молитвы, что выражено в стихотворении «В минуту жизни трудную». К сожалению, молитва не спасла его потому, что он ждал только восторгов и не хотел понести труда молитвенного.
Сильно нападает враг, внушая отчаяние, уныние, страх. «Тако убояшася страха, идеже не бе страх». Иногда человек опускает руки, но такая печаль незаконна, нужно молитвой и крестным знамением, в котором скрыта непостижимая сила, противиться врагу.
Второе средство — пост. Пост бывает двояким: внешний — воздержание от скоромной пищи, и второй — внутренний — воздержание всех чувств, особенно зрения, от всего нечистого и скверного. Тот и другой неразрывно связаны друг с другом. Некоторые понимают только пост внешний. Например, приходит такой человек в общество, начинаются разговоры, осуждение ближних — он принимает в них деятельное участие. Но вот наступает время ужина — гостю предлагают скушать котлетку, кусочек поросеночка — он решительно заявляет, что не ест скоромного. — «Ну, полноте, — уговаривают хозяева, — скушайте, ведь не то, что в уста, а то, что из уст». — «Нет5 я насчет этого строг». И не понимает такой человек, что он уже нарушил внутренний пост, похитив многое у ближнего. Вот, почему так важно трезвение.
Трудясь для своего спасения, человек мало-помалу очищает свое сердце от зависти, ненависти, клеветы и в нем насаждается любовь. Древние христиане жили в полном согласии и любви, и все у них было общее. У Апостолов ничего не было своего, а достаточные приносили снедь, рыбку и клали к ногам Апостолов, а те раздавали неимущим. Часто они собирались на вечерю любви.
Так у меня нет ничего своего, а приносят добрые души, я же только раздаю и мирянам, и братии. Случается, что отец Григорий таинственно стучится к какому-нибудь иноку, и, когда тот отпирает, сует ему утешение. — «А кого поминать-то?» — «Имена их же Ты веси, Господи!»
Когда Господь послал Апостолов на проповедь, Он заповедал им не думать, что отвечать мучителям, потому что Дух Святый будет говорить за них. Тот же Дух Святый действует и теперь в Священном Писании и священных книгах, в частности, в житиях Святых, оттого это чтение так и действует на душу, что оно животворится Духом Святым. В нем слово жизни, а в сочинениях неверов — слово смерти. Оттого неграмотные рыбаки покорили всю вселенную, что ученые неверы не могли противостоять Святому Духу.
Известен такой факт. Грозный завоеватель Аттила с огромными полчищами, опустошая все на пути, двинулся и подступил к самому Риму. (Рим чувствовал, что не может противостоять Аттиле), он возбуждал желание Аттилы взять его с несметными сокровищами и громкой славой. Римляне стали умолять папу Льва, признанного Церковью святым, идти к Аттиле и убедить его отступить из города. Папа Лев пошел и начал его убеждать. Аттила молча слушал, и мысль его колебалась. Сподвижники Аттилы советовали ему не слушать уговоров, и он, было, хотел идти на город, но папа снова стал убеждать, и Аттила решительно воскликнул: — «Назад». — Теперь, когда Рим с его несметными сокровищами в виду всех. — «Назад!» — решительно повторил Аттила, и миллионное войско тронулось обратно. Позднее воины спрашивали Аттилу, почему он послушал какого-то старика. — «Потому что я не мог противиться неотразимой силе его слов».
Так Св. Дух говорил через папу, и человек не мог устоять. Подобное нечто было с нашим великим полувером поэтом Пушкиным. Он был в полной славе, вызывал восторг не только в России, но и за границей, и, кажется, по музыкальности стиха не было ему равного. Но стихи эти были о земном, как сам он говорит: — «Лире я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей». Но на него имели большое влияние речи Митрополита Филарета, заставляя его вдумываться в свою жизнь и раскаиваться в пустом времяпрепровождении.
Однажды Митрополит Филарет служил в Успенском соборе. Пушкин зашел туда и, скрестив, по обычаю, руки, простоял всю длинную проповедь, как вкопанный, боясь проронить малейшее слово. После обедни возвращается домой. — «Где ты был так долго?» — спрашивает его жена. — «В Успенском». — «Кого там видел?» — «Ах, оставь», — отвечал он и, положив свою могучую голову на руки, зарыдал. — «Что с тобой?» — стревожилась жена.— «Ничего, дай мне скорее бумаги и чернил». — И вот, под влиянием проповеди Митрополита Филарета, Пушкин написал свое дивное стихотворение, за которое много, верно, простил ему Господь. «В часы забав», особенно замечательно последнее четверостишие: «… и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт».
Пушкин, конечно, никогда не слыхал пения Серафимов, но, очевидно, подразумевал под ним нечто великое, что сравнил с проповедью Митрополита Филарета. Мы благодарны Пушкину за то, что он оставил нам такой памятник о Митрополите Филарете.
Итак, детки мои духовные, читайте Св. Писание и творения св. отцов, потому чрез них говорит Сам Св. Дух, и не будем читать произведения таких учителей, которые стремятся отторгнуть нас от Христа.
Да спасет всех нас от этого Господь. Будем следовать учению только Христа — и спасемся.
У Хомякова есть прекрасное стихотворение, в котором он сравнивает ясный небесный свод с учением небесных рыбарей. Есть еще стихотворение мало известного поэта, Страхова. Да поможет всем нам Господь! Аминь.